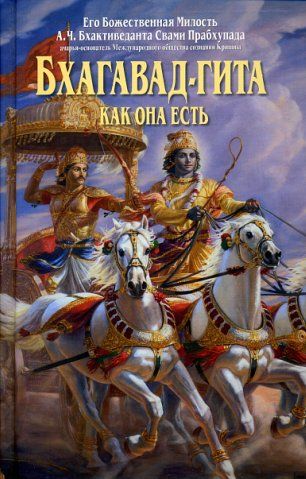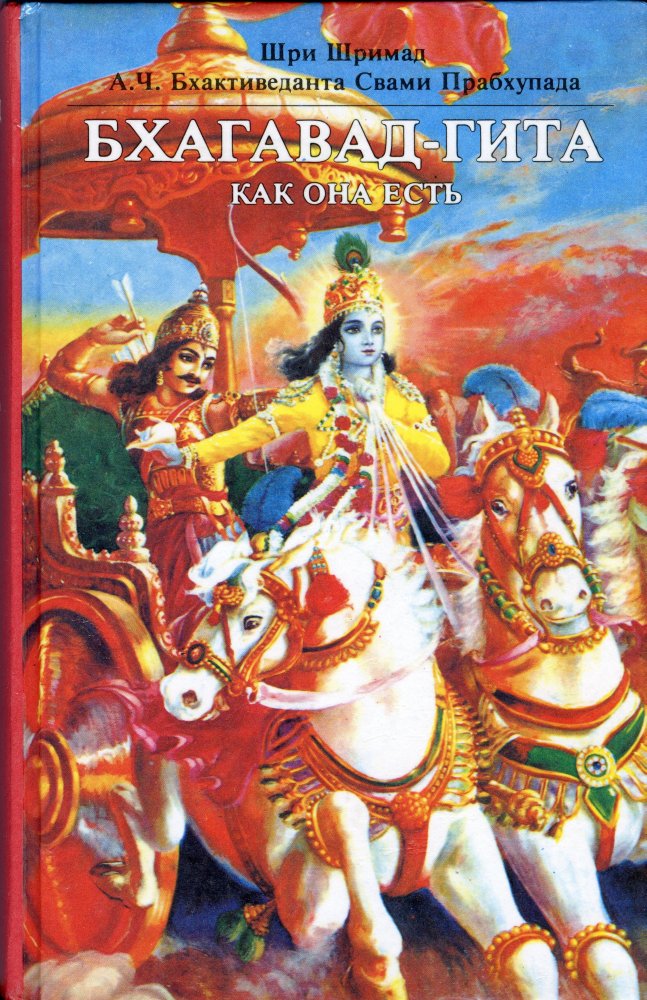Бхагавата Пурана
В своих попытках преподнести духовное знание молодому поколению бенгальской интеллигенции Бхактивиноде Тхакуру приходилось не раз сталкиваться с враждебными настроениями. Эти молодые люди, перенявшие у своих английских преподавателей идеи Вилльяма Джонса и других европейских востоковедов, не питали особого доверия к преданиям старины. Какие же шаги необходимо было предпринять, чтобы донести до них учение Кришны о любви к Богу? Бхактивинода Тхакур рассудил, что в сложившейся ситуации подавать истину необходимо было так, чтобы не тревожить укоренившиеся в людях предрассудки.
В своем выступлении в Динаджпуре (Зап. Бенгалия) в 1869 году он особо подчеркивает тот момент, что «Бхагавата», или «Бхагавата-пурана», является выдающимся произведением, описывающим Всевышнего и процесс постижения наших отношений с Ним. Отвергнув чистый монизм как утопическую идею, Бхактивинода Тхакур отметил, что Бог представляет собой вечную личность. В частности, он сказал, что
«центральный персонаж «Бхагавата» — это... трансцендентное, всеведущее, святое, благое, всемогущее, вездесущее, справедливое и милосердное Духовное Божество; Оно деятельно, является личностью, обладает безграничной свободой и не имеет себе равных ни в чем; все сущее создается и хранится Им» (Thakura Bhaktivinoda, 1986, p.30).
К этому он добавил, что высшее предназначение души заключается в том, чтобы «служить этому Безграничному Существу, погрузившись в вечную духовную деятельность — «в Абсолютную Любовь» (Thakura Bhaktivinoda, 1986, p.30).
В своей речи Бхактивинода назвал материальный мир порождением майи. Под майей подразумевается не иллюзия, а вечно существующая энергия Всевышнего, задача которой — вводить в заблуждение души, не желающие существовать в гармонии с Ним. Сотворение материального мира с помощью майи свидетельствует о милосердии Господа, поскольку тем самым Он позволяет жаждущим независимости живым существам заниматься чем им заблагорассудится в мире, где присутствие Бога не ощущается.
Все эти концепции были изложены Бхактивинодой в том же виде, в каком они встречаются в «Бхагавате». Но к описанию материальной вселенной он применяет другой подход. Он пишет:
«В популярных книгах по индуизму, в которых раджа-гуна и тама-гуна выдаются за пути религии, часто встречаются пространные описания Ада и Рая. Рай отличается неземной красотой, а Ад, в свою очередь, представляет ужасную картину. Однако религия, провозглашаемая в «Бхагавате», свободна от такого рода поэтических фантазий. Конечно, в некоторых главах можно найти описания адских и райских мест и связанные с ними любопытные истории, однако та же самая книга советует нам не принимать эти описания за реальность, но смотреть на них как на нравоучения, предназначенные для простого, невежественного люда, и как на способ устрашения грешников» (Thakura Bhaktivinoda, 1986, pp.24-25).
В действительности, однако, в «Бхагавата-пуране» признается существование Ада и Рая и их обитателей. В ней весьма подробно описаны высшие планетные системы и полубоги, живущие на них, включая Брахму, Шиву и Индру. «Бхагавата» не только признает существование подобного рода существ, но и приписывает им немаловажную роль в ходе сотворения и поддержания существования вселенной. К тому же эти полубоги играют определенные роли во многих из явленных Кришной развлечениях — лилах — в материальном мире. К примеру, в истории о том, как Кришна поднял холм Говардхана, не кто иной как Индра насылает разрушительную бурю, задетый вмешательством Кришны в проводимое в его честь жертвоприношение.
Но, несмотря на это, Бхактивинода Тхакур решил отодвинуть на задний план все «мифологические» стороны «Бхагаватам», желая быть услышанным интеллигенцией, чья мирская образованность восставала против подобных «вздорных фантазий». Он пошел еще дальше, опубликовав в 1880 году трактат под названием «Шри Кришна-самхита», в котором подробно остановился на философии сознания Кришны (Rupa-vilasa dasa, 1989, pp.138-139). В этой книге также была дана реконструкция индийской истории наподобие той, которую составил в свое время Вилльям Джонс (см. табл.). С этой целью полубогов и Ману пришлось превратить в земных царей и укоротить историческую перспективу до нескольких тысяч земных лет. Необходимо, однако, отметить, что сам автор не признавал такую «смягченную» версию «Бхагаваты». Напротив, он считал так называемую «мифологию» «Бхагаваты» истиной, о чем ясно свидетельствуют другие его произведения. К примеру, в «Джайва-дхарме» Бхактивинода Тхакур пишет:
«Как я уже упоминал, религия вайшнавов появилась одновременно с сотворением первых живых существ. Первым вайшнавом был Брахма. Шриман Махадева также является вайшнавом. Все древние Праджапати — вайшнавы. Вайшнавом был и чудесным образом рожденный сын Брахмы — Нарада Госвами... Так выглядела картина вайшнавской религии на заре творения. Далее, когда в свой черед были созданы отдельные категории живых существ — боги, люди, демоны и т.д. — среди них нельзя не назвать таких вайшнавов, как Прахлада и Дхрува. Прахлада, так же, как и сыновья Ману, приходится внуком Праджапати Кашьяпы. Поэтому не может быть ни малейших сомнений в том, что чистая вайшнавская религия возникла на заре истории. Позже преданными Вишну стали цари солнечной и лунной династий и великие отшельники» (Thakura Bhaktivinoda, 1975, pp.155-156).
В приведенном выше отрывке Бхактивинода Тхакур отвечает на теории тех, кто считает, что вайшнавская дхарма возникла сравнительно недавно. Автор ни в коем случае не подвергает сомнению подлинность таких упомянутых в шастрах полубогов и легендарных героев, как Брахма, Махадева, Нарада и Прахлада. Доказательств тому в книгах Бхактивиноды Тхакура предостаточно.
Чем же объяснить тот факт, что Бхактивинода Тхакур, на деле принимавший буквальное толкование шастр, отвергал его в своей проповеди? Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, ачарья, продолживший дело Бхактивиноды Тхакура, указывает на возможность косвенной трактовки шастр. Трактовка, которая основана на прямом значении слов в данном тексте, называется мукхья-вритти, а косвенные толкования именуются лакшана-вритти или гауна-вритти. Шрила Прабхупада отмечает следующее:
«Иногда... в случае необходимости ведические произведения трактуются согласно принципу лакшана-вритти или гауна-вритти. Однако подобные толкования не следует считать непреложной истиной» (Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1975, Cc Adi-lila, Vol.2, p.95).
Иначе говоря, в большинстве случаев к шастрам следует подходить с позиций мукхья-вритти.
Теология откровения
Признавая правомерность тех незначительных смягчений в учении шастр, к которым прибегал Бхактивинода Тхакур, стремясь донести это учение до презирающей древнюю мифологию интеллигенции, было бы тем не менее вполне естественным задаться вопросом о перспективности такого подхода к проповеди в наше время, а также о том, в какой степени такая проповедь отражает истину. Можно ли исходить из того, что мифическая сторона индуистских шастр не столь существенна и ее можно представлять как правду верующим и как вымысел скептикам? Или, быть может, нам стоит согласиться с бытующими в современной науке представлениями о том, что мифология индуизма является выдумкой, и попытаться сформулировать философию, в которой одновременно сохранялась бы идея любви к Богу и в то же время отсутствовали отжившие свой век концепции древних людей?
Чтобы ответить на эти вопросы, давайте представим, что конкретно потребовалось бы изменить в формулировке вайшнавской философии для того, чтобы сделать ее приемлемой для американской интеллигенции конца двадцатого века. В любом случае нам пришлось бы несколько отклониться от материалистических устоев современной науки. Ученые-психологи, к примеру, утверждают, что ум и порождаемые им ощущения и эмоции есть не что иное как продукт деятельности мозга. Если согласиться с этой точкой зрения, то тогда всякое религиозное чувство, будь то блаженство осознания Брахмана или према-бхакти, — не более чем галлюцинация.
Альтернативную точку зрения по этому вопросу можно найти у психолога Вильяма Джеймса. Несмотря на то, что Джеймс жил в девятнадцатом веке и принадлежал к ученым кругам Запада, он сделал объектом своих эмпирических научных исследований феномен религии. Его наблюдения не потеряли своей актуальности и в наше время.
В результате своих исследований Джеймс пришел к следующим выводам:
«Если говорить о крайних пределах нашего бытия, то, на мой взгляд, они простираются необозримо далеко — в совершенно иное измерение, в корне отличающееся от наблюдаемого и «понимаемого» нами мира. Называйте это как вам угодно, — мистической сферой или областью сверхъестественного, однако неоспоримо то, что данная незримая сфера — не вымысел, а реальность, поскольку ее влияние простирается на этот мир. Когда мы вступаемв контакт с данной сферой, мы можем явственно ощутить ее воздействие на нашу ограниченную личность — мы резко меняемся, и это перерождение личности влечет за собой определенные изменения в поведении. То, что оказывает влияние на реальность, само по себе является реальностью. Поэтому я полагаю, что у нас нет никаких философских оснований считать незримый или мистический мир нереальным» (James, 1982, pp. 515-516).
Если рассматривать вайшнавскую философию в рамках этих представлений о истическом, трансцендентном измерении, то неизбежен вывод о том, что трансцендентная область действительно существует, представляя собой вечную обитель Кришны. Те, кто достиг духовных вершин, по милости Кришны могут увидеть эту сферу в медитации и принять участие в вечных лилах (развлечениях) Кришны. Однако, когда речь заходит об описываемых в Пуранах событиях, происходящих в материальном мире, можно сказать, что они требуют к себе рационального подхода с точки зрения современных научных знаний. В целом, далеко не все мифические истории в Пуранах следует принимать буквально. В то же время, истории, имеющие отношение к развлечениям Кришны, не должны рассматриваться как чьи-то фантазии. В действительности они являются духовной «трансляцией», которую «принимают» погруженные в медитацию умы великих душ. Истории связанные с Кришной не имеют отношения к этому миру — они принадлежат сфере чистой, беспримесной духовности.
Такая философия (в дальнейшем именуемая «теологией откровения») способна завоевать много поклонников. Она позволяет сохранить идею любви к Богу и в то же время избежать досадных конфликтов между «мифами» и бытующими в наше время научными представлениями. Элементы этой философии встречаются и у некоторых из современных ученых, изучающих традицию бхакти.
В качестве иллюстрации к сказанному выше я хочу привести статью преподавателя истории религии в колледже Вильямса, профессора Дэйвида Хабермана, озаглавленную «Shrines of the Mind» (Haberman, 1993). В своей статье Хаберман утверждает, что Врадж, «традиционно считающийся местом, где Кришна явил свои лилы», представляет собой прежде всего некую святыню, существующую на ментальном плане, в которую можно проникнуть и которую можно постичь в процессе медитации. Хаберман также уверяет, что физически существующий Врадж, расположенный неподалеку от города Матхуры в Северной Индии, стал основным центром поклонения Кришне только в шестнадцатом столетии, когда последователи Чайтаньи Махапрабху и другие вайшнавы «обнаружили» забытые места развлечений Кришны. По словам Хабермана, эти места до шестнадцатого века просто не существовали и были не обнаружены, а спроецированы на землю Враджа из трансцендентной сферы, увиденной в медитации.
Хаберман приводит ряд толкований самого процесса медитации на воссозданную в уме святыню, которые варьируют от простого «созерцания воображаемых сцен», до «проникновения в вечный трансцендентный мир, доступный лишь внутреннему взору и достижимый с помощью медитации» (Haberman, 1993, p. 31). Сам Хаберман больше склоняется ко второму определению, и потому его теорию можно назвать одной из разновидностей теологии откровения, согласно которой человек с помощью медитации способен проникнуть в трансцендентный мир Кришны, однако Сам Кришна не являет Своих развлечений в материальном мире. Хаберман не допускает никаких сомнений в том, что всемирная история развивалась именно так, как это представляют себе современные ученые. И это означает, что много веков назад во Врадже скорее всего обитали племена нецивилизованных людей, поклонявшиеся животным, но там никогда не было Кришны, который в буквальном смысле поднял холм Говардхану.
Хотя эта религиозная теория и позволяет в какой-то мере избежать конфликта с современной наукой, у нее все же есть некоторые существенные недостатки. Вот некоторые из них:
1. Данная теория противоречит вайшнавской традиции и тем самым ставит под сомнение представления множества великих святых и философов, которые полностью поддерживали эту традицию. А поскольку все эти великие души и были теми самыми медитирующими, чьему взору представал Сам Кришна, то тогда ставится под сомнение и реальность такого рода откровений. Другими словами, встает вопрос, почему те, кто созерцает трансцендентную обитель, считают истинными мифы, которые мирские ученые считают ложными?
2. Данная теория не поясняет, почему поклонение Кришне должно считаться недавним изобретением, как это утверждают ученые. Если существует вечная обитель Кришны, которую можно достичь в медитации, то тогда почему же люди проникли в нее только недавно?
3. Каким образом данная теория объясняет существование множества религий? Являются ли откровения, упоминаемые в других религиозных традициях, истинными? Если нет, то почему только вайшнавские откровения истинны? Если да, то тогда необходимо признать существование множества трансцендентных обителей — по одной на каждую религию. Или, быть может, люди видят в трансцендентной обители то, что они хотят увидеть
4. Данная теория жестко ограничивает власть Бога. Если согласиться с тем, что Бог являет Себя только в откровениях, то тогда как же быть с Его ролью Творца и повелителя вселенной? Если задачу объяснения природы материального мира оставить на откуп современной науке, то от этой роли практически ничего не останется.
5. Теология откровения может быть с большой легкостью преобразована в чисто психологическую теорию религиозных переживаний. В конце концов, именно эта точка зрения, несомненно, найдет самую широкую поддержку психологов, нейрофизиологов и физиков.
Приняв во внимание недостатки, указанные в пунктах с 1-го по 4-й, можно сказать, что перспектива, изложенная в 5-м пункте, выглядит практически неизбежной. В результате у нас получается полностью материалистическая теория, оправдывающая существование религии. В том, что касается лил Кришны, то подобный ход мысли приводит нас к особенно нежелательным выводам. Хаберман следующим образом характеризует медитацию на лилы Кришны:
«Высшая цель медитации — религиозный войеуризм (болезненная привязанность к созерцанию любовных сцен - прим. редакции) и наслаждение в воображаемом действии — дарует, как полагают, безграничное блаженство» (Haberman, 1993, p. 26). Чтобы избежать подобных грустных выводов, давайте теперь рассмотрим более гармоничный подход, которого традиционно придерживаются вайшнавы, видящие в Кришне прежде всего высшего Творца и вершителя сверхчеловеческих деяний на Земле.
Преодоление барьера между мифом и наукой
Если принять теологию откровения за основу и пойти дальше, пользуясь научным методом индукции, то мы обнаружим, что эта теория может стать ступенью на пути к созданию другой, более совершенной теории. Отправной точкой в этом может послужить история, упоминаемая Хаберманом, история о вайшнавском святом Нароттаме дасе Тхакуре (Haberman, 1993, p. 33).
Рассказывают, что как-то раз Нароттама в медитации кипятил молоко для Радхи и Кришны. Когда молоко вскипело и стало переливаться через край, он в своей медитации схватил горшок голыми руками и снял его с огня, при этом сильно обжегшись. Выйдя из медитации, Нароттама обнаружил на своих руках настоящие ожоги.
Аналогичных историй существует великое множество, и я хотел бы вкратце рассказать еще две. Однажды Шринивас Ачарья, современник Нароттамы даса Тхакура, медитируя, обмахивал опахалом Господа Чайтанью. В медитации Господь Чайтанья снял с Себя гирлянду и надел ее на шею Шринивасу. Когда тот очнулся, на его шее висела настоящая гирлянда, источавщая неземной аромат (Rosen, 1991, pp. 63-64).
Следующая история рассказывает о святом вайшнаве Духкхи-Кришна дасе. Как-то раз, подметая то место во Врадже, где Кришна танцует с гопи, он нашел удивительный золотой браслет, и, посчитав свою находку очень необычной, спрятал браслет в надежном месте. Несколько позже к нему пришла некая старушка и попросила вернуть браслет. В конце концов оказалось, что старушка на самом деле была Лалитой — одной из служанок Радхи и Кришны в духовном мире. Она открыла Дукхи-кришна дасу, что браслет принадлежит Самой Радхе, и затем предстала перед ним в своем истинном облике (Rosen, 1991, pp. 119-139).
Как отнеситься к этим историям? История с обожженными руками не вызовет никаких возражений у большинства ученых. Ведь, в конце концов, известен тот факт, что у католиков, медитирующих на распятие Христа, иногда появляются стигматы ран Христа на руках и ногах. Если медитация может каким-то образом вызвать кровоточащие раны, то почему она не может вызвать ожоги?
История с чудесной гирляндой ведет нас на шаг дальше. В ней речь идет о материализации осязаемого объекта. На первый взгляд она может показаться фантастической, но между тем, случаи материализации широко освещены в различных источниках. К примеру, профессор философии Марилэндского Университета Стефан Брауде утверждает, что многие из случаев материализации, осуществленных духовными медиумами, хорошо документированны и заслуживают серьезного изучения (Braude, 1986). Если ученые не отрицают возможность материализации предметов на сеансах спиритуалистов, то почему то же самое не может произойти с прекрасной гирляндой, материализованной святым?
Теперь мы вплотную подошли к третьей истории. Хотя на первый взгляд она выглядит совсем уж невероятной, существует немало похожих историй, в которых обитатели трансцендентного мира переступают порог материальной сферы, делают здесь что-то и затем исчезают. Примером тому может послужить история из «Шри Чайтанья-чаритамриты», описывающая, как маленький мальчик Кришна пришел к святому Мадхавендре Пури, дал ему горшочек с молоком и вслед за тем мистическим образом исчез. Мадхавендра Пури выпил принесенное ему молоко, чем доказал его реальность. Той же ночью Кришна явился ему во сне и указал, где находится мурти Гопалы, которое было установлено правнуком Кришны Ваджрой и позже спрятано брахманами во время мусульманского нашествия на Врадж (Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1975, Cc., Madhya-lila, Vol.2, pp.12-19).
Каждая последующая из описанных выше историй все более противоречит с бытующими в науке воззрениями. Между тем, весьма трудно провести четкую границу между историями, которые могли происходить в действительности, и теми, что кажутся откровенным вымыслом. Стоит однако отметить, что все эти истории указывают на возможность энергетического обмена между духовной и материальной сферами бытия, поэтому их серьезное изучение позволило бы открыть в науке новую главу.
Когда ученые исследуют какое-либо эмпирическое свидетельство, они склонны оценивать его, не выходя за рамки своих ограниченных представлений. В итоге те выводы, к которым они приходят, изучив тот или иной факт, объясняют не столько сам факт, сколько наши представления о нем. Таким образом, с переменой в системе наших представлений меняются и выводы, касающиеся конкретных свидетельств, хотя сами свидетельства остаются неизменными.
Представьте на мгновение, что бы произошло, если бы все доступные факты из исторического опыта человечества изучались не в свете рационалистических представлений девятнадцатого века, а исходя из постулатов качественно новой науки, признающей возможность духовных преобразований материи. В результате этого у нас могла бы сложиться совершенно иная картина прошлого, чем та, которую отстаивают современные ученые. И, к примеру, возражения Вильяма Джонса по поводу истории о братьях Пандавах уже не казались бы нам столь весомыми, какими они представляются сейчас, когда они рассматриваются в свете традиционных научных представлений. Действительно, если допустить, что высшие существа могут вступить в нашу сферу из другого мира, то почему они не способны оставить здесь свое потомство? Таким образом, пересмотренная с точки зрения традиционных духовных учений, картина исторического прошлого могла бы оказаться гораздо более близкой к реальному историческому прошлому.
На исходе двадцатого века наметились некоторые признаки, предвещающие развитие более широкого подхода в науке. Во времена Вивекананды и Бхактивиноды Тхакура казалось, что ничто не может воспрепятствовать победному шествию механистической, редукционистской науки, и многие люди верили, что вскоре эта наука найдет объяснение всему. Однако к концу двадцатого века это триумфальное шествие во многих областях исследований натолкнулось на явно непреодолимые препятствия.
В 90-е годы прошлого столетия, физика, например, оставляла впечатление практически полностью разработанной научной дисциплины, однако уже в первые десятилетия двадцатого века, с появлением теории относительности и квантовой механики, она вошла в область парадоксального и мистического. И в наши дни мистицизм квантовой механики по-прежнему побуждает ученых размышлять над вопросами, которые на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков могли бы показаться ненаучными и относящимися к сфере мистики (Bohm, 1980; Penrose, 1989; Jahn and Dunne, 1987).
Между тем, сейчас физика стоит перед гораздо более серьезной проблемой. Доблестные зодчие от физики — авторы теорий о происхождении и строении вселенной — постепенно начинают осознавать, что их теории не могут быть должным образом экспериментально проверены (Weinberg, 1992). В связи с этим физик из Гарварда Говард Джорджи охарактеризовал современную теоретическую физику как «развлекательную математическую теологию» (Crease and Mann, 1986, p.414).
В середине двадцатого века ученые были убеждены, что они вот-вот докажут, что мышление является механическим процессом, и тем самым подтвердят правоту жившего в восемнадцатом веке Ламетри, который уподобил человека машине. Однако мы видим, как в последние годы, несмотря на стремительный рост потенциала компьютеров, осуществление мечты о создании искусственного интеллекта отодвигается все дальше в будущее.
После открытия спиральной структуры ДНК, сделанного в 1953 году Уотсоном и Криком, многие ученые решили, что главная тайна жизни наконец-то раскрыта. С тех пор молекулярная биология достигла огромных успехов в объяснении клеточных молекулярных механизмов. Но открывшаяся биологам невероятная сложность этих механизмов еще дальше отодвинула разрешение проблемы объяснения происхождения жизни (Horgan, 1991).
Я упомянул лишь некоторые из множества областей, в которых на исходе двадцатого века механистический редукционизм явно лишился всяких перспектив. Возможно, благодаря этим переменам, многие ученые начали обращаться к тем теориям и сферам исследований, на которые до этого в ученом мире было наложено своего рода табу.
Сейчас, к примеру, существуют целые коллективы ученых, открыто исследующих явления, лежащие на границе физической науки и сфер мистического и сверхъестественного. Примерами могут служить Международная ассоциация новой науки (IANS), Общество научных исследований (SSE), Институт духовных наук (IONS), Международное общество по изучению тонких энергий и энергетической медицины (ISSSEEM). Все эти организации регулярно проводят научные конференции и симпозиумы.
Некоторые из феноменов, исследуемых этими группами, весьма сильно напоминают «мифические» явления, часто упоминаемые в древних религиозных текстах и в современных сообщениях о религиозных откровениях. Сотрудничество между учеными-теологами и этими новыми научными организациями может стать ценным источником новых достижений для обеих исследовательских групп.
Буквальное толкование учения вайшнавов
Мы уже обсуждали, что в пору расцвета британского политического и идеологического владычества Бхактивинода Тхакур посчитал нужным представить на суд молодой бенгальской интеллигенции модифицированную версию учения вайшнавов. Однако с закатом Британской Империи его сын и преемник Шрила Бхактисиддханта Сарасвати развернул мощную кампанию открытой проповеди вайшнавских идей по всей Индии. Впоследствии то же самое, но уже на Западе, сделал ученик Бхактисиддханты Сарасвати Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, дерзнувший провести Ратха-ятру — фестиваль, испокон веков проводимый в Джаганнатха Пури, — на Трафальгарской площади в Лондоне.
Сейчас, в конце двадцатого века, когда научные взгляды быстро меняются, возможно, уже наступил тот благоприятный момент, когда можно открыто представить учение бхакти на суд интеллектуальных кругов всего мира. Благодаря тому, что наука развивается и становится все более открытой для изучения мистических явлений, появилась возможность постепенно уладить некогда непримиримый конфликт между рационализмом и традиционной религией. Это позволит утвердить такой подход к религии, который был бы приемлем в интеллектуальном отношении и в то же время удовлетворял внутреннее стремление души к трансцендентныму любовному общению с Богом.
Здесь нам возможно возразят, что вайшнавское учение с его акцентом на том, что Кришна — это Верховный Господь, явно страдает сектантской пренебрежительностью к другим религиям. В ответ на это следует сказать, что любую доктрину можно представить узким, сектантским образом. Но, как отмечает Бхактивинода Тхакур в своем эссе о «Бхагавате», вайшнавскому учению присуща терпимость по отношению ко всем религиозным системам и признание важности каждой из них.
Следующая молитва показывает отношение «Бхагават» к другим религиям:
«О мой Господь, Твои преданные видят Тебя ушами, когда слушают рассказы о Тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются и Ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к Своим преданным, что предстаешь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о Тебе» (Шримад Бхагаватам, 3.9.11).
В этом стихе утверждается, что Бог являет Себя Своим почитателям в разных формах, в зависимости от их желаний. К числу таких форм относятся различные аватары Кришны, которые описаны в традиционных вайшнавских текстах, но на этом их список не кончается. В «Бхагаватам» сказано, что разнообразным экспансиям Господа нет числа, и все их невозможно описать в ограниченных по размерам писаниях, которых придерживаются последователи разных религиозных традиций.
Приведенный ниже стих из «Бхагаваты» дает некоторое представление о различных религиозных традициях, существующих во вселенной:
«Прародители, возглавляемые Бхригу Муни и другими сыновьями Брахмы, породили на свет многочисленное потомство, от которых произошли полубоги, демоны, люди, гухьяки, сиддхи, гандхарвы, видьядхары, чараны, киндевы, киннары, наги, кимпуруши и т.д. Все существующие во вселенной виды жизни, вместе со своими предводителями появились на свет, наделенные различными характерами и желаниями, которые относятся к сфере трех гун материальной природы. Разные качества обитателей вселенной привели к возникновению великого множества ведических обрядов, мантр и жертвоприношений» (Srimad-Bhagavatam, 11.14.5-7).
Это утверждение по своей сути определенно «мифологическое», и мы легко можем себе представить реакцию Вильяма Джонса, доведись ему услышать такое. Тем не менее в этом отрывке дана величественная картина бесконечно разнообразных рас живых существ, населяющих вселенную, для каждой из которых определены религиозные отправления, соответствующие ее природе и положению. В данном случае слово «ведические» не обязательно подразумевает конкретные санскритские тексты, существующие в наши дни в Индии. Скорее оно указывает на всю совокупность религиозных систем, созданных безграничным Верховным Господом для того, чтобы предоставить возможность духовного развития всем бесчисленным видам живых существ во вселенной.
Отличительная особенность этого утверждения — как и всего вайшнавского учения — это то, что Бог суть реально существующая личность, и Его бесконечно разнообразное творение также является реальностью. Веротерпимость в вайшнавизме проявляется в том, что все истинные религии рассматриваются как божественные откровения, вайшнавское учение о любви к Богу призвано установить отношения любовного служения между реально существующей индивидуальной душой и Верховным Господом, поглощенным Своей не менее реальной трансцендентной деятельностью (лилой) .
Литература
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C., Sri Caitanya-caritamrita, Adi-lila, Vol.2 Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust, 1975.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C. Sri Caitanya-caritamrita, Madhya- lila, Vol. 2, Los Angeles: Bhaktivedanta Book Trust, 1975.
Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order, London: Routledge and Kegan Paul, 1980.
Braude, Stephen, The Limits of Influenсe, New York: Routledge, 1986. Crease, Robert and Mann, Charles, The Second Creation, New York: McMillan, 1986.
Haberman, David, «Shrines of the Mind», Journal of Vaisnava Studies, Vol.1, No.3, 1993.
Horgan, John, «In the Beginning...» Scientific American, Feb. 1991.
Jahn, Robert and Dunne, Brenda, Margins of Reality, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1987.
James, William, The Varieties of Religious Experience, New York: Penguin Books, 1982.
Jones, William, The Works of Sir William Jones, Vol.1, London: Printed for G. G. and J. Robinson, Pater-Noster-Row and R.H. Evans, No.26, Pall-Mall, 1799.
Jordan, James N. Western Philosophy: From Antiquity to the Middle Ages, New York: Macmillan, 1987.
Majumdar, R.C., Swami Vivekananda: A Historical Review, Calcutta: General Printers and Publishers, Ltd.,1965.
Moore, James R. «Geologists and Interpreters of Genesis in the Nineteenth Century», God and Nature, eds. David Lindberg and Ronald Numbers, Berkeley: University of California Press, 1986.
Penrose, Roger, The Emperor’s New Mind, Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. Rosen, Steven, The Lives of the Vaisnava Saints: Srinivasa Acarya, Narottama Thakura, Syamananda Pandita, Brooklyn, New York: Folk Books, 1991.
Rupa-vilasa dasa, The Seventh Goswami, New Jaipur Press, 1989.
Thakura, Sri Srila Bhakti Vinode, Jaiva Dharma, Madras: Sree Gaudia Math, 1975.
Thakura, Srila Bhaktivinoda, The Bhagavat: Its Philosophy, Its Ethics, Its Theology, Nabadwip: Shri Goudiya Samiti, 1986.
Vivekananda, Swami, Selections from Svami Vivekananda, Calcutta: Advaita Ashrama, 1963.
Weinberg, Steven, Dreams of a Final Theory, New York: Pantheon Books, 1992.


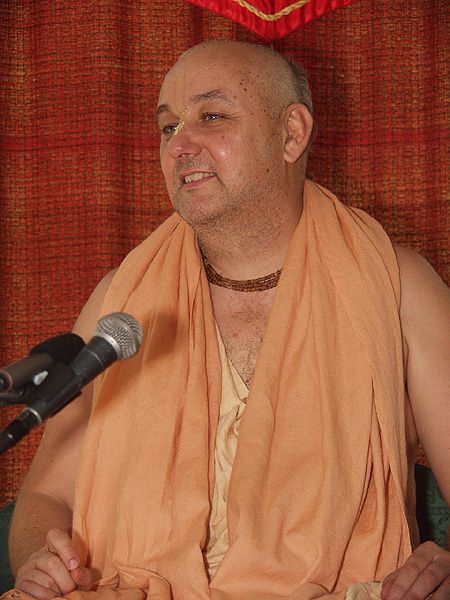 В этой статье Сухотра Свами обсуждает разные варианты подходов к приобретению знания. Он исследует этот феномен в категориях трех праман, признанных источников достоверного знания в традиции вайшнавов (пратьякша, анумана и шабда). Сухотра Свами объясняет, что в гносеологии вайшнавов шабда (слушание авторитетного человека) считается наилучшим способом обретения знания. Он рассматривает методы непосредственного восприятия и логической аргументации и предлагает интересный и остроумный анализ их ограниченности по сравнению с шабдой, источником безошибочного и трансцендентного знания. Статья представляет собой главу из книги Сухотры Свами «Тень и реальность», перевод которой готовится к изданию.
В этой статье Сухотра Свами обсуждает разные варианты подходов к приобретению знания. Он исследует этот феномен в категориях трех праман, признанных источников достоверного знания в традиции вайшнавов (пратьякша, анумана и шабда). Сухотра Свами объясняет, что в гносеологии вайшнавов шабда (слушание авторитетного человека) считается наилучшим способом обретения знания. Он рассматривает методы непосредственного восприятия и логической аргументации и предлагает интересный и остроумный анализ их ограниченности по сравнению с шабдой, источником безошибочного и трансцендентного знания. Статья представляет собой главу из книги Сухотры Свами «Тень и реальность», перевод которой готовится к изданию.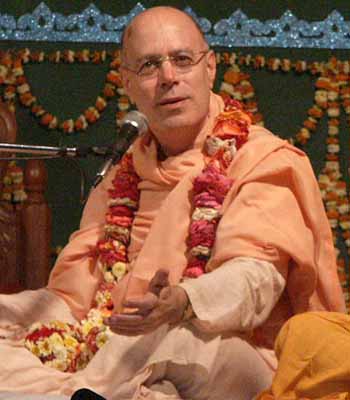 Представьте себе 70-летнего индийского ученого-вайшнава, отправившегося из Индии в Америку на грузовом корабле. С собой у него лишь несколько комплектов шафрановой одежды монаха, пара белых резиновых туфель и сорок рупий (
Представьте себе 70-летнего индийского ученого-вайшнава, отправившегося из Индии в Америку на грузовом корабле. С собой у него лишь несколько комплектов шафрановой одежды монаха, пара белых резиновых туфель и сорок рупий (