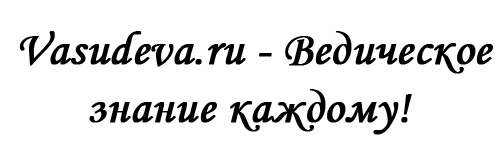Десяток «Катерпиллеров» неистово и упорно перепахивали своими гигантскими плугами землю у меня в голове. Какой идиот выпустил их из парка такое множество? Мне показалось, что от них нестерпимого треска расколется на несколько частей голова. Я хотел крикнуть им, чтобы убирались подальше, но вдруг почувствовал, что рот забит раскаленным песком. Все мои попытки выплюнуть этот гадкий комок не привели к успеху, и я в изнеможении упал на землю. Набравшись немного сил, я попытался открыть слипшиеся глаза и мало-помалу что-то начало получаться.
Хотя веки разомкнулись лишь на половину, этого было вполне достаточно, чтобы в поле моего зрения попала двухъярусная кровать и какой-то заросший парень неопределенного возраста. «Где я?» – обратился я к нему, но мой голос донесся как из глубоко колодца и больно ударил по мозгам. «Там же, где и я, – лаконично заметил он, - в КПЗ». Это для меня было совершенно не понятным, и не находило ровным счетом никакого отклика в памяти. Противный липкий пот лил с меня ручьем, как будто я пять минут назад побывал под проливным дождем. Прежде всего я должен умыться и выпить хоть глоток холодной воды, а уже затем можно и попытаться разобраться что к чему.
Оказавшись с помощью парня в туалете, я увидел вожделенный кран и с жадностью припал к струе холодной воды. Казалось, я не пил ничего более вкусного и приятного. Напившись досыта, я засунул под кран голову и смотрел, как вся усталость, стремительно кружась в водовороте, уносится в водосток. Выйдя из туалета, я чувствовал себя значительно посвежевшим, но это было всего лишь частью проблемы. Гораздо сложнее было восстановить события минувшего дня. Помог мне это сделать следователь по особо важным делам областной прокуратуры. Как из рога изобилия посыпались обвинения в убийствах, в вооруженном разбое, бандитизме. Перед моим взором медленно проплыли Москва, Новгород, Питер, Рыбинск и, наконец, Ярославль. Но я упорно от всего отказывался, стараясь выиграть время и выяснить что им действительно известно, а что они используют как старый, избитый прием для ловли на глупую наживку.
Если театр начинается неизменно с вешалки, то любой город с вокзала. Тюрьма это тоже маленький город и соответственно имеет то место, которое каждый приезжающий именует вокзалом или же причалом. И вот я уже битых четыре часа расхаживал с заложенными за спиной руками в одном из «залов ожидания» пока, наконец, не прибыл конвой, и мы не спеша двинулись к главному корпусу. Почему-то все тюрьмы Екатерининских времен похоже одна на другую. Неизменно полутораметровые стены, закругленные низкие потолки и узкие проходы и коридоры. Звук наших шагов немедленно отскакивал от цементного пола и эхом летел по всем трем этажам. От этого резонанса создавалось впечатление, что идут не четыре человека, а по меньшей мере четырежды по четыре. Поднявшись на самый верхний, третий этаж, я очутился в насквозь прокопченной маленькой камере. «Ага, – подумал я, – если камера маленькая, значит это спецкорпус». Но не смотря на то, что это была скорее не камера, а грязная каморка, в лучшем случае рассчитанная на трех-четырех человек, нас почему-то оказалась целая дюжина. «Начинается», – подумал я и присел от усталости на самую ближнюю койку.
Для себя я отметил одну довольно знаменательную вещь, узнав, что дело у меня довольно серьезное, никто не лез с идиотскими вопросами. Поскольку в камере было не протолкнуться, да и спать-то приходилось по очереди, я облюбовал себе местечко на верней койке у окна и рассматривал внутренний дворик через отогнутые стальные пластины жалюзи. И так, пребывая наедине с собственными мыслями, я довольно отчетливо вспомнил, как разлетелась на миллионы мельчайших частичек боковое стекло «восьмерки», как будто какой-то шутник разорвал враз несколько ниток бисера, и они летели в разные стороны, подобно праздничному фейерверку, подсвеченные ярким огнем фар стоящего напротив автомобиля. Обрез исчез самым загадочным образом, и мои руки сжимали пустоту. Это было для меня настолько невероятным, что я попросту отказался верить. Не успел я до конца осознать происшедшее и что-либо предпринять, как сработал блокатор дверцы, и чья-то цепкая рука выдернула меня из салона как из бутылки пробку. После обыска меня отвезли в отделение милиции, где какие-то люди пытались задать мне вопросы, но видя мое полуневменяемое состояние, оставили свои бесполезные попытки. Затем меня посадили в маленькую душную камеру, в которой можно было мне стоять, и последнее, что я помню, это белые халаты врачей и острый запах эфира. Но я старался меньше об этом думать, попытался отвлечься, перекладывая с места на место белые костяшки домино. Это мне довольно быстро наскучило, я переключился на книги. Детективы и приключения очень скоро были заброшены на дальнюю полку. Насилие, наркотики, деньги, секс – все это уже было таким знакомым, что начинало вызывать аллергию. Больше двух партий в карты я уже тоже выдержать не мог, потому забросил и их. Я лежал и маялся от безделья, ничего не выражающим взглядом водил по стенам и потолку, пытаясь найти в этом что-то занимательное, но не находя ничего интересного, закрывал в глаза и погружался в дрему.
Какое-то разнообразие в эту рутину серых будней вносили поездки на следствие. Лето стояло в самом разгаре, и можно было хоть полчаса полюбоваться миром в окно по пути следования. Все же наверное, такие поездки больше огорчали, чем приносили облегчение, тем более когда знаешь, что ничего этого уже больше никогда не увидеть. Это внешне я оставался спокойным, потому что годы, проведенные за колючей проволокой, научили не выставлять свои чувства на всеобщее обозрение, внутри все болело и ныло. Многих очень удивляла моя отрешенность от внешнего мира, но им было невдомек, что все их восхищения напрасны и пусты, я был сделан из такого же теста, и мое спокойствие это всего лишь маска.
Когда конвой доставил меня в кабинет следователя и были сняты наручники, первое, что я отметил про себя, прежде, чем сесть, был его костюм. Хотя он каждый раз появлялся на допрос опрятно одетым, но сегодня в нем был излишний лоск, к тому, же запах дорого одеколона никак не гармонировал с этим кабинетом. «А у меня для тебя сюрприз, – обнажая ряд ровных белоснежных зубов, сказал он, – и, надеюсь, он тебя обрадует». «Я в этом ни капли не сомневался», – хотел сказать я, но сказал совсем иначе: «Ну и что с того?», хотя сердце мое стало биться на такт быстрее. У нас с ним была своеобразная игра в жмурки, прямых улик на меня не было и он старался поймать большую рыбину в мутной воде. Естественно, ничего у него из этого не получалось, и он, видно, решил сменить тактику или наживку. Дверь, после как того как он нажал кнопку звонка, отворилась, и вошла она. Бросившись ко мне на шею, стала неистово осыпать горячими поцелуями мое лицо. Она захлебывалась слезами, пытаясь что-то сказать, но получилось нечто несвязное и неопределенное. Я гладил непослушные завитки ярких как медь волос и пытался успокоить любимого человека. В конце концов мне это удалось, и, улыбаясь своей ослепительной улыбкой солнечного зайчика, она своим надушенным платком стирала следы губной помады на моем лице.
Спустя миг, когда это чудное видение растаяло, оставив как воспоминание о себе запах тонких духов, следователь мягко намекнул, что, мол, пора и показания по делу давать, как бы плату за оказанную услугу. Две молнии, метнувшиеся из моих глаз, были самым лаконичным ответом.
Вернувшись в камеру, я лишь поставил к столу две огромных сумки со всякой снедью, а сам залез на свое излюбленное место, и куря одну сигарету за другой, предавался сладостным воспоминаниям. Для меня было очень важно ощущать себя любимым человеком. Друзья тоже не бросили в беде и примчались в такую даль. Только что мне это дает? Все равно на сей раз меня не вытащить из этой ямы, разве что поддерживать нормальное существование на какое-то время. Все уже давно спали, а я все по-прежнему сидел погруженным в размышления, лишь подбадривая себя чашкой крепчайшего кофе с шоколадом, да очередной сигаретой.
Волшебница-осень вовсю сыпала золотом листьев, щедро покрывая холодную землю теплым нетканым ковром. И в этих разноцветных красках было что-то особое и неповторимое, присущее лишь одной природе. Ни один, пусть даже самый искусный, художник не смог бы наложить на холст эту яркую, естественную палитру, где каждый лишний и неосторожный мазок мог бы испортить великолепную картину, сделать ее неестественной, мертвой. Так же я, как будто опасаясь испортить девственную белизну листов протокола допроса, оставлял их чистыми и незапятнанными. От моего упорного молчания следствие зашло в тупик. Прямых свидетелей у меня не было, соответственно, самое большее, что мне смогли предъявить, это наличие оружия. Против этого я не возражал, но не более. Подружка с друзьями приезжали по два раза в месяц, и с лихвой привозили все необходимое, потому я упорно тянул время, вполне удовлетворенный таким положением. Однажды она вдруг привезла мне Библию, хотя ни о чем подобном я ее и не просил. «Вот, решила, что тебе просто необходимо почитать ее, – сказала она, – я же чувствую как ты переживаешь, хотя и делаешь вид, что все нормально, а так может полегче станет на душе». Она, не целясь, попала в самую цель. Действительно, последнее время я вдруг внезапно стал ощущать в себе острую потребность соприкоснуться с чем-то возвышенным, чего мне не могла дать ни одна мирская книга. Почти осязаемо я чувствовал внутри образовавшийся духовный вакуум, который необходимо было заполнить, и я решил не откладывая заняться этим, благо времени у меня было предостаточно. Я всегда верил в существование Бога, но Он мне казался всегда почему-то таким далеким и недоступным. Когда кончалась тяжкая суета и все вокруг приходило в запустение, я любил утренними и вечерними часами в глубоком одиночестве бродить по песчаной отмели, придаваясь размышлениям о запредельном и вечном. Я знал, что рано или поздно мне придется умереть, но что меня ждало после смерти? Правда ли, что душа вечна, и после смерти переходит в другое тело? А может со смертью тела все кончается? По своей натуре я не был скептиком, но все же хотелось в полной мере ощутить реальность этих явлений. Правда я не знал каким именно образом это возможно будет сделать. Я тогда даже не предполагал, что есть многочисленные доказательства существования и бессмертия души, и что этот очевидный и неоспоримый факт прямо указывал человеку на его истинную природу, говоря, что он есть не материя, а дух.
Когда я учился в третьем классе, на уроке пения, после небольшой спевки, учительница постоянно читала нам разную приключенческую и историческую литературу. В те времена это были довольно редкие книги, и потому, мы каждый раз с нетерпением ждали эти уроков. Однажды она нам читала захватывающий роман о сокровищах, спрятанных в разрушенной церкви, и мы, находясь под впечатлением этого повествования, почему-то решили, что и в нашем пустующем храме Георгия Победоносца, спрятаны несметные богатства. Группа желающих отправиться на поиски клада набралась достаточно быстро, оставалось лишь дождаться выходного дня. И вот в воскресенье, когда все еще наслаждались теплом мягкой постели, мы, немного дрожа от легкой прохлады и от возбуждения, вооружившись карманными фонариками и куском толстой прочной веревки с узлами, встретившись в условном месте, отправились в путь. Чтобы добраться до храма потребовалось чуть больше часа идти по еще спящему городу до небольшой лесопосадки. Храм был виден издалека, не смотря на отсутствие куполов с крестами, казался величественным богатырем из простого камня. Позолота мозаичного барельефа, изображающего Святого Георгия, пронзающего копьем треглавого змея, в лучах восходящего солнца, издавала какое-то сказочное свечение, а кровь, обагрившая чудовище, казалась только что пролитой. Все, это вызывало какое-то неопределенное чувство восхищения и восторга. Поскольку двери храма были надежно заколочены, нам предстояло пробираться внутрь через подвал. Решетки на окнах были достаточно широки для нас, и потому, спуститься вниз по веревке не составило большого труда. Но как только мы оказались на каменных плитах в подвалах, нами внезапно одолел суеверный страх. Лучи карманных фонарей лихорадочно метались из угла в угол, пытаясь отыскать притаившееся чудовище или, по меньшей мере, истлевший человеческий скелет, прикованный к стене проржавевшей цепью, но ничего подобного там не было и в помине. Таким образом, немного оглядевшись и успокоив отчаянно бившееся сердце, мы потихоньку двинулись вперед, крепко держась за руки и освещая фонарем путь. Самое интересное заключалось в том, что мы совершенно не знали куда нужно идти и откуда именно начинать поиски. И мы двинулись наугад, заглядывая и осматривая попадающиеся на пути помещения. К нашему разочарованию все они оказывались совершенно пустыми, за исключением может быть двух или трех комнат, в которых валялась рухлядь от ломанных деревянных сидений и какой-то мусор. Этому было свое объяснение. Во времена марксизма-ленинизма, ровно как и прочего материализма, самым варварским способом пытались лишить человека его духовной сути. Насаждая безбожие, было залеплено грязью такое понятие как духовное воспитание. Все храмовое имущество было предано топору и огню, а в самом помещении разместили кинотеатр. Но невозможно заменить истинное и вечное каким-то низкопробным суррогатом. Постепенно этот кинотеатр перестал приносить доход и его закрыли.
Шаг за шагом мы продвигались вперед, боясь попасть в какую-нибудь ловушку подземного лабиринта. Но вот впереди показалась широкая полоса дневного света и мы с радостью и некоторым облегчением выбрались в просторный зал с высеченными из камня высокими колоннами. Даже пустым он казался наполненным атмосферой святости и какого-то неземного покоя. Озираясь по сторонам, я пытался определить источник, от которого исходило это ощущение, но ничего не обнаружил, лишь только подняв голову вверх, обнаружил искомое. От удивления я застыл с раскрытым ртом, и, казалось, что даже сердце в груди перестало биться. Это была картина Страшного Суда (как мне впоследствии стало известно – кисти самого Васнецова, который и расписывал весь храм). Ничего похожего мне никогда не приходилось видеть, и я стоял как зачарованный. Особый колорит картине приносили лучи утреннего солнца, пробивавшиеся через цветные стекла чудом сохранившихся витражей. Эти разноцветные блики не только служили прекрасным цветовым фоном, но делали восприятие объемным и насыщенным. Из оцепенения меня вывело тихое, но настойчивое подергивание за рукав одним из ребят и мы продолжили дальнейший осмотр. Поднявшись на звонницу, мы немного полюбовались прекрасной панорамой окрестности, а затем перешли на чердак. Но и там, так и ничего не обнаружив, разочарованные мы уже собрались уходить восвояси, как в самом углу одной из комнат я заметил небольшую кучу какой-то рухляди, лежащей среди кучи из битого кирпича и осыпавшейся от времени штукатурки. Ничего в ней примечательного не было, может даже и не стоило обращать на нее внимание, как и на десятки аналогичных куч, попадавшихся на нашем пути, но что-то внутреннее подтолкнуло меня подойти и посмотреть. Это были иконы. Их явно никто здесь не прятал, просто когда-то выкинули за ненадобностью. Кликнув уже ушедших вперед товарищей, я стал аккуратно доставать одну за другой и раскладывать рядом с собой. Икон было около десятка, но не все из них в хорошем состоянии. У большинства можно было рассмотреть лишь едва различимые контуры рисунка, другие же были исцарапаны или деформированы. Но все же оставалось три или четыре иконы с ярко выраженным сюжетом, и я с восхищением принялся рассматривать их. Больше всех мне понравилась икона с изображением святой Троицы и коленопреклоненным старцем. От нее исходил како-то особый магический импульс, который и вызывал во мне приятное чувство торжества, наполняя им каждую клеточку моего организма, чего я так редко испытывал в своей жизни. Именно эту икону я и принес домой и взволнованно поставил на самое видное место. Но вопреки моим ожиданиям, так и никто не обратил на нее внимания, разве что лишь бабушка что-то бросила мимоходом и убрала эту картину за открытую раму окна. Мне вдруг стало очень обидно, и уйдя из дома, я прогулял в одиночестве до самой темноты. Тогда я был задет до глубины души таким поступком родственников, ведь за этой иконой я видел нечто большее, чем кусок дерева с написанным библейским сюжетом, но я ни за что не смог бы предположить, что пройдет всего несколько лет и именно этот бесценный шедевр я обменяю на ту самую финку, которая сыграет в моей жизни первую роковую роль. Тогда мне и вспомнилась та картина Страшного Суда: Бог наказал меня всего через два дня, как бабушка предрекла это. И вот теперь, находясь за решеткой, я стал с каждым днем все больше и больше задумываться о судном дне. Из-за своей непомерной гордости и тщеславия я не чувствовал себя грешником перед Богом и потому считал, что все, что я делаю, правильно. Но соприкоснувшись с духовным, моя позиция оказалась очень шаткой и неустойчивой. До меня стало доходить, что наказание за совершенные грехи неизбежно, и в любом случае придется отвечать перед Богом. Час расплаты может наступить в любой момент, и меня удивляло почему я раньше не подумал, что и моя душа нуждается в спасении. Почему я раньше не пришел к Богу и, покаявшись в храмах, не просил защиты? Что-то меня остановило от этого важного шага, но вот что именно, так и останется загадкой.
Когда я освободился в последний раз, я довольно часто посещал церковные службы. Вдыхая запахи ладана и стеарина, слушая плывущее с амвона торжественное песнопение, осеняя чело крестным знамением, я считал, что этого вполне достаточно для покаяния, и потому старался не смотреть в сторону исповедника. Никто не станет искать защиты, пока не почувствует необходимости в спасении лично для себя. Лишь только когда грешник, однажды проснувшись, осознает себя грешником, он начинает искать пути к спасению. Чем больше я читал Библию, тем яснее до меня доходило понимание, что абсолютно каждый человек нуждается в спасении. Это неоспоримый факт, и Сам Бог сообщил о необходимости спасения для каждого человека, даже более того, – указал прямой путь. Но мы, по своему неразумению, отвергли его и начали выдумывать собственные пути, основанные на корысти и сиюминутной выгоде. Многие из моих сокамерников носили православные нательные кресты, считая себя истинными поборниками и радетелями веры, но я ни разу так и не увидел, чтоб кто-нибудь из них осенил себя крестным знаменем, прочел молитву или возблагодарил Господа. Крест был для них чем-то вроде фетиша, а не символа страданий Сына Божьего. Молитв же они не знали никогда, и что больше всего поражало, совсем не стремились их узнать. Все это, вкупе, оставляло неприятный осадок. Я бы смог понять любого закоренелого уголовника, имеющего солидный опыт в сфере лицемерия, это характерная черта каждого второго преступника, и потому не вызывает удивления. Но лицедействовать в такой области как религия, это выше моего понимания. У каждого, кем бы он ни был должно быть что-то святое, и потому особо оберегаемое, но когда я видел в этих людях не завуалированную двойственность, резкий контраст между словом и делом, то у меня, помимо воли, стали зарождаться сомнения. Пытаясь их рассеять, я стал брать книги о великих святых и подвижниках православия. Но опять был сильно разочарован. В книгах говорилось об идеале, а в настоящей, будничной жизни приходилось видеть прямо противоположное. И все же я решил попробовать начать с самого себя. Первым шагом был отказ от курения. Затем я надумал соблюдать предписываемые посты, и два раза в неделю перестал есть мясо. Мне казалось, что жизнь стала постепенно меняться в лучшую сторону, да так, что меня захватила одна мысль: мне необходимо покаяние! Мне – покаяние? Это казалось таким абсурдным и диким, что я тут же пытался отогнать эту нелепейшую мысль. Тем не менее, она засела в моем мозгу настолько прочно, что я стал работать в этом плане над собой до тех пор, пока отчетливо не почувствовал, что созрел для исповеди. К тому же, как я самостоятельно не пытался постичь Писание, некоторые места Библии по-прежнему ставили меня в тупик и требовали более четких разъяснений. Для этого требовался искушенный наставник. Поговорив с сокамерником, я написал прошение в местную епархию с просьбой о помощи.
Ответ не заставил себя долго ждать. Через пару недель зам. начальника тюрьмы сам подошел к нашей камере и подозвал нас к дверной форточке. «Ну что, платить будете?» – первое, что сказал он, заглядывая в какую-то бумагу. Этот вопрос меня немного обескуражил и вызвал легкое недоумение. Невольно оглянувшись на свою койку, я отметил, что постельные принадлежности вроде как все целы и не порваны, книги без пометок, настольные игры не поломаны, стало быть и платить-то не за что. «Давайте решайте поскорее»,– поторапливал он, от нетерпения похлопывая свернутой бумагой по ладони. Смерив его недоуменным взглядом, я решил спросить о сути дела, и разрешить явное недоразумение. Ответ на мой вопрос выбил землю под моими ногами. Я почувствовал, что внутри что-то оборвалось, и кровь ударила в лицо. Ничего подобного я даже и предположить не мог, и потому вначале подумал, что это не очень удачная шутка. Но когда зам. начальника, с самым серьезным выражением на лице повторил, что за визит исповедника епархия требует оплаты, я понял, что это не розыгрыш. Отказавшись от каких-либо оплат, я сел на койку и опустил в один миг потяжелевшую голову. Мне было муторно и противно от того, что подобным шагом меня растоптали в самых лучших чувствах. Деньги у меня были, и для меня ничего бы не стоило заплатить за этот визит сполна, но сама мысль о покупке индульгенции на отпущение грехов, казалась мне кощунственной и мерзкой. Невольно рука потянулась за сигаретой, и я сделал сразу несколько глубоких затяжек. Все мое рвение к занятиям исчезло в один миг, и больше Библию я не раскрывал. То же самое случилось и с моим соседом по камере.